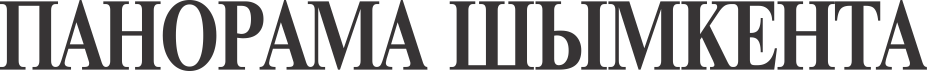Шымкентский городской русский драматический театр закрыл свой 95-й театральный сезон премьерой спектакля «Мюнхгаузен. Самый правдивый» по пьесе Григория Горина. Постановка, сделанная бывшим шымкентцем, режиссером Антоном Митневым, представила другое прочтение истории и образа легендарного Мюнхгаузена.
Лаура КОПЖАСАРОВА
Из Москвы в Шымкент
 Интерес к этому спектаклю возник задолго до премьеры. Во-первых, интриговало воплощение на шымкентской сцене истории Мюнхгаузена, заявленной как самая правдивая. Во-вторых, спектакль ставил бывший артист шымкентского театра, выпускник театральной студии «Балаганчик», ныне известный российский актер и режиссер Антон Митнев.
Интерес к этому спектаклю возник задолго до премьеры. Во-первых, интриговало воплощение на шымкентской сцене истории Мюнхгаузена, заявленной как самая правдивая. Во-вторых, спектакль ставил бывший артист шымкентского театра, выпускник театральной студии «Балаганчик», ныне известный российский актер и режиссер Антон Митнев.
Ввиду ограниченного времени на подготовку — всего месяц — он взял уже знакомый материал: ранее Митнев ставил в Москве пьесу Григория Горина «Самый правдивый». Московский спектакль был подготовлен в 2023 году выпускниками «МИР-6» (мастерская индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова), в числе которых был Митнев. Он предложил сокурсникам создать независимый театр и основал «ТЕАТР И-ОН». И первой постановкой театра стал первый акт спектакля по пьесе Горина, который так и назвали — «Мюнхгаузен. Серия первая».
«Он был из пяти стульев и одного гвоздя, — рассказал режиссер. — Наша цель была в том, чтобы это был спектакль вне зависимости от декораций, света, каких-то приспособлений и подкрепляющих внешних составляющих. Чтобы это прозвучало именно как актерское действо, которое держит на себе внимание. Шикарный текст Горина и актеры».
Потом поставили второй акт, спектакль «оброс» саунд-дизайном, 3D контентом, костюмами, стал менять площадки, от маленьких перешли к большим. А теперь он еще и расширил географию.
Она любит барона, а барон не врет
В спектакле Митнев следует изначальному материалу — непосредственно пьесе «Самый правдивый». Для известного фильма Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» с Олегом Янковским в главной роли она была переделана. Поэтому знакомый с фильмом зритель увидит в постановке значительные отличия, в том числе в сюжете. Прежде всего, это финал: если в фильме Мюнхгаузен в одиночку поднимается по веревочной лестнице к жерлу пушки, которая оказывается лестницей в небо, то здесь он улетает вместе с Мартой на Луну.
К такому исходу приводит действие спектакля, определенного режиссером как «диалог главных героев с обществом».
«Было не так просто пробиться через текст Горина, который стал уже скоплением афоризмов, особенно после фильма, но мы его «вскрыли», — отметил он. Почему же не разводится барон с баронессой Якобиной? Откуда берется 32-ое мая? И что это за выходка?
Для кого-то это окажется новостью, но по Библии развенчать венчанных невозможно. Ведь «…то, что Бог сочетал, человек да не разлучает». Это необратимый процесс. Даже в современном мире Церковь дает согласие на второй и третий брак, но не на развод. И барон в первой же сцене с пастором сталкивает нас с неразрешимостью: жить по любви с Мартой (как велит Бог) или по закону с Якобиной (как велит Библия). По Богу или по Библии? Он здесь столкнул то, что изначально должно быть одним целым. Как такое возможно?!»
Барон не просто так говорит, что его главная заслуга в том, что он никогда не врет (от этого и название пьесы — «Самый правдивый»), продолжил пояснения Митнев: «Он не может идти против закона и против Бога, он предлагает пересмотреть наше понимание священного текста. Обнулить историю 32-ым мая. Запустить ход времени заново. Только для Церкви это невозможно. Каждый день в церковном уставе прописан на 532 года вперед (Великий Типикон), каждый псалом, каждое празднование и поминание, часослов. И как можно стереть все и начать заново? Перечеркнуть весь опыт кровавых ошибок?!»
Вот и выходит, что барону необходимо стать Миллером, чтобы не нарушить миропорядок и не потерять Марту. «Но в миллерстве любовь, увы, не живет, — констатирует собеседник. — Формула их любви одна: Марта + барон (а барон он тогда, когда не врет). Уже выяснилось, что в этой жизни, не поломав мироздания, законной любви ни Марта, ни барон не получат. И остается одно — пожертвовать ВСЕМ ради любви. Поэтому финал складывается так, что уходят оба: барон и Марта. В любви всегда двое, но ради нее необходимы жертвы».
«Это пьеса про то, как барон и Марта в диалоге пытались соединить в этом мире закон и любовь, но в этот раз не вышло, — подытожил режиссер. — Получится ли когда-нибудь? Только когда пробьет шесть часов. Шесть вечера или шесть утра? Шесть дня!.. Получается, любви нет места ни на земле, ни на солнце. И Мюнхгаузен с Мартой оказываются на лунной дорожке. Луна — это что-то между».
Митнев признает, что в этом есть какая-то отсылка к «покою» из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Визуально же лунный фон последней сцены лично мне чем-то напомнил кадры из фильма «Путешествие на Луну» 1902 года французского режиссера Жоржа Мельеса, одного из основоположников мирового кинематографа. Кстати, Мельес тоже внес вклад в «мюнхгаузиаду» — снял короткометражный фильм «Галлюцинации барона Мюнхгаузена».

Неоднозначный Мюнхгаузен
«История Мюнхгаузена — не о вымысле, а о выборе, — отмечается в аннотации театра к спектаклю. — Он (Мюнхгаузен) не герой и не безумец. Он ничего не доказывает. Он просто живет — и задает неудобные вопросы. О любви, вере, истине, правде и лжи. Не навязывает. А показывает. И зовет к диалогу». Про спектакль «Мюнхгаузен. Самый правдивый» говорится, что он не о фантазиях, а о смелости быть собой. И что режиссер не дает ответа на вопросы, кто же все-таки барон Мюнхгаузен: безумец, гениальный лжец или… самый правдивый человек в мире?
Исполнитель роли Мюнхгаузена Анатолий Петриченко поделился, что не мечтал и даже не думал о такой возможности. Но предложению был рад, потому что, по его словам, с возрастом хочется сыграть что-то серьезное. По поводу содержания образа Мюнхгаузена актер сказал, что они сразу определились с режиссером, что это будет совсем не та трактовка, какую сделал Янковский вместе с Захаровым. И лично он сам пытался «отойти» от Янковского.
«Это совершенно другой спектакль, полная противоположность фильму, совсем другой Мюнхгаузен, — отметил Анатолий Петриченко. — Никакой романтики, все более жестко, откровеннее, честнее, может, где-то даже глубже. В версии Захарова получилась лирическая притча. Нам же режиссер сразу поставил задачу — выразить совершенно другие мысли, раскрыть другую тему. Любовь здесь, конечно, присутствует, причем очень жертвенная. Если в фильме эта линия показана как-то мягко, то у нас просто весь спектакль идет как доказательство любви: любишь, не любишь, будешь любить и так далее и тому подобное. То есть показан постоянный конфликт Мюнхгаузена с Мартой, с обществом».
Сам режиссер добавил, что его Мюнхгаузен неоднозначный и его образ вызывает целый поток философских рассуждений: «В этой пьесе нет виноватых. Никто не убивает барона, никто не желает его смерти, все стремятся любыми способами сохранить его жизнь и мировой порядок. Убивает же его любовь, ради которой он предлагает все вывернуть наизнанку и прийти к истине. А это страшно, потому что законы любви нам неизвестны. Как жить, никто не знает. Общество же, имея долгий исторический путь крестовых походов и кровавых войн, пытается избежать переворотов. Поэтому правила — это не ханжество и ограниченность, а вынужденная мера для сохранения порядка.
И в этом — прелесть горинского текста, здесь нет второстепенных персонажей. Общество не «плохое», и герой неоднозначен. Мы не поем оду Мюнхгаузену, как белой вороне, которую задавила серая масса. Здесь все — жертвы некоего парадоксального закона, где любовь непременно ведет к катастрофе, а без любви невозможно. Наша задача не дать ответ на вечные вопросы, а столкнуть две равноправные позиции, чтобы зритель выбор сделал сам.
Жанр спектакля определен, как трагифарс. Фарс — потому что ситуация безвыходная, но вечно повторяющаяся, а трагедия в том, что в итоге фактически это смерть двоих».
Создать дистанцию
Режиссер отмечает, что по сравнению с его первыми постановками в шымкентской добавилась более богатая форма, и здесь немаловажна визуальная составляющая, впрочем, ограниченная техническими возможностями. Тем не менее, в спектакле удалось выстроить продуманную сценографию, которая позволяет глубже раскрыть его смысл.
Так, антураж лишен примет времени. Действие пьесы, напомним, происходит в одном из многочисленных германских княжеств XVIII века. Вневременность происходящего подчеркивается также отсутствием исторической костюмированности. Более того, костюмы части персонажей откровенно карикатурны.
Это, а также минималистические декорации, надписи-обозначения явлений природы («Шум ветра», «Свежесть дождя» и т.п.), муляж большого гвоздя, громадные книги, рамки разных размеров, клетчатые сети, прямо указывающие на «нормы» и ограничения общества, расставленные по разным частям сцены белые конструкции, соединяющиеся в финале в круг-луну, цветографика и цветомузыка, гротескные танцы и прочее — не только и не столько модернистские приемы. Вероятно, главная задача этих визуальных элементов — подчеркнуть фарсовость и условность происходящего.
Режиссер подтвердил нарочитость отмеченной карикатурности и гротескности: по его словам, это сделано принципиально — для того, чтобы в первую очередь не было сравнения с фильмом Захарова. «Нужно было как раз-таки показать некую вычурность, оттолкнуться от восприятия Мюнхгаузена, — сказал он. — У нас он не таков, к которому привыкли. Это не Янковский, не лирический герой. У нас он более жесткий и конкретный. Во-вторых, «накопив» дистанцию между привычным и новым — в костюмах, размерах, в поведении — увести зрителя от хрестоматийности и штампов. И в освобождении от сюжета позволить вглядеться в глубочайшие парадоксы, которые заложил автор. Юмор и отношения здесь вторичны, так как вопросы поднимаются глобальные».
Комментируя минимализм декораций, собеседник отметил, что при этом они весьма фундаментальные: «Смысл и концепт именно визуальной части в том, что луна всегда присутствует на сцене. Она уже есть в самом запросе Марты, когда та говорит: давайте введем в закон любовь. Это уже луна, это уже территория катастрофы. И по ходу действия эта катастрофа собирается и складывается в большую огромную луну, которая и выбрасывает их куда-то далеко.
То есть при минимализме декораций все на своих местах, в том числе и рамки общества, в которых мы все живем и в которые не вмещается Мюнхгаузен. Мы пытаемся как-то приручить судьбоносное, божественное. А ведь это не статично, это всегда в динамике. И как бы мы ни загоняли жизнь в статику, это не удается. И уход на Луну — это жертвенный акт для сохранения как любви, так и миропорядка. В этом — наш некий финал».
Одной из отличительных особенностей постановки также стал выход актеров в зал во время сцены суда во втором акте. Герои переадресовывают обсуждаемые на процессе вопросы публике. В частности, звучат такие: в чем человек человек, как его можно рассчитать объективно, как определить, в какой момент исчерпывающе он является самим собой? Режиссер считает, что это интересный опыт, так как зритель выходит из позиции наблюдателя и становится участником диалога. Прямой контакт приводит к пониманию фарсовости и в то же время трагичности ситуации. И это подготавливает к финалу пьесы Горина, выдвигавшего на первый план не сюжетность, а парадоксы жизни.

Сезон закрыт
«В целом я доволен постановкой. Спектакль состоялся. На первом премьерном показе были и игра, и мысль, и действие. И все это довольно хорошо складывалось в нужном темпоритме. Конечно, были недочеты, но побед было больше. Искренне благодарен талантливой труппе театра за такую работоспособность, а также дирекции театра — за возможность реализации спектакля», — резюмировал Антон Митнев.
Довольным остался и директор театра, заслуженный деятель РК Игорь Вербицкий. «Я счастлив и горд, что сегодня на этой сцене играют спектакль нашего воспитанника Антона Митнева, — сказал он, выйдя на сцену перед показом. — Антон закончил у нас театральную студию, работал. Потом учился и работал в Алматы. Сейчас живет и работает в Москве. Я очень рад, что наши ученики приходят и ставят спектакли. Это здорово! Надеюсь, что зрители полюбят спектакль «Мюнхгаузен. Самый правдивый».
Объявляя закрытие 95-го театрального сезона, директор вывел на сцену творческий коллектив и дал «отчет», перечислив все поставленные в этом насыщенном сезоне взрослые и детские спектакли, подготовленные представления, вечера, встречи и другие мероприятия. Особо отметил недавнее успешное участие шымкентского городского русского драматического театра в XXV международном театральном фестивале «Мелиховская весна» со спектаклем «Дядя Ваня», заявив, что это было «самое большое из сделанного в этом сезоне».
Напоследок Вербицкий сообщил: театр «замахнулся» на «Маскарад». В сентябре, на открытие нового сезона, планируется премьера этой драмы Михаила Лермонтова. Постановку будет делать команда из ГИТИСа, с которым шымкентский театр сотрудничает уже не один год.